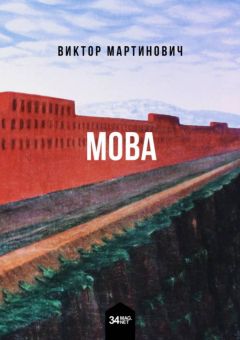Человек, который плачет в ресторане – это скандал. Cold sex, постмарксистская критика чувственности, безэмоциональное потребление, человек как машина самоудовлетворения – все эти концепции привели к тому, что мир чувств стал практически таким же непристойным, как и мир употребления мовы. Хотите удостовериться в том, что мы – уже не люди? Поплачьте в кофейне. Если вы еще на это способны – искренне расплакаться. Если вам это позволят косметика MaxFactor и ваш консультант по омоложению.
Через пять минут судорожных рыданий я услышал характерный звук – кто-то сфотографировал меня на мобилу. Через десять минут ко мне подошел вышколенный официант в ливрее и с казенной озабоченность осведомился, не вызвать ли мне «скорую». Я рассчитался и вышел, подгоняемый в спину ветром, в наш Город призраков, где меня ожидала срочная беллетристическая работа в офисе: брендбук компании по продаже компаний, выпускающих калийные удобрения. «Сейчас пройдет! – говорил себе я. – Скоро успокоюсь!» В офисе впечатлительная секретарша, которая когда-то пыталась вызвать милицию для поисков Ганина, хлопала надо мной крыльями и пробовала напоить то чаем, то кофе, то валерьянкой. «Что случилось? Что с вами случилось?» – вопрошала она. Как же теперь люди теряются при виде сильных эмоций!
«Ничего. У меня просто аллергия», — отвечал я. «Может, «скорую» вызвать?» – предлагала девушка. Меня тем временем трясло от плача, идущего из самого сердца. Я заметил, что писать в состоянии таких сильных рыданий неудобно, потому что слезы и сопли норовят залить клавиатуру. Я ревел более суток – до конца рабочего дня в офисе, потом – дома, в подушку, и на следующее утро в офисе, доделывая заказ калийщиков. После полудня в моем кабинете никого не осталось: видимо, коллеги боялись, что мой «психоз» может быть заразным. В 16.30 мне на стол лег стандартный офисный бланк с уведомлением о моем сокращении ввиду плановой минимизации корпоративных затрат. Принесла мне его впечатлительная секретарша. Когда я уходил, неся коробки с накопленным за время работы барахлом, я слышал, как она говорила подружкам: «Ой, девочки, я себя такой виноватой чууувствую!».
Так я стал свободным человеком с уймой свободного времени для употребления мовы.
Когда у меня заканчиваются деньги, я иду и месяца два разношу по офисам бутыли с питьевой водой «Трайпл». Или расклеиваю афишки тайских массажных салонов в Дроздах. Или работаю лифтером в «Кроун Плаза» — мой французский прононс по сию пору производит впечатление на местных менеджерш, которые никогда выше шестого этажа (где их дрючит директор по персоналу) не поднимались. Я поправляю фирменную фуражку, я улыбаюсь и спрашиваю «Quelle etage?»[34] Я прикасаюсь к кнопкам лифта рукой, затянутой в белую кожаную перчатку, полный элегантности и чувства собственного достоинства. Диоген бы гордился мной. Временами местные арабы, старательно маскирующиеся под французов, чтобы произвести впечатление на своих девок, делают вид, что не понимают мой французский. Тогда, бывает, я выхожу из себя и работу приходится менять, а кулаки заживают сами.
В последние несколько месяцев работодатели, быстренько заглянув в историю моего трудоустройства в паспорте гражданина Северо-Западных земель, предлагают мне работу, связанную скорее с физическим, чем с умственным трудом. Я прихожу в офис, рассчитывая на позицию этикет-консультанта, специалиста по переговорам с китайцами, а устраиваюсь мыть пол и заварочные чайники после таких переговоров. Говорю же, Диоген бы мной гордился.
Вот только не надо меня жалеть, жалейте себя! Если живешь в заднице и ты – человек с образованием, позицией и гордостью, в сорок у тебя есть выбор. Или ты становишься говном – той самой субстанцией, которая и должна находиться там, где ты родился, и тогда у тебя будет карьера, символический капитал и секретарша с всегда готовым к употреблению фитнес-задом. Или ты пытаешься оставаться человеком, и тогда задница тебя отторгает, а все вокруг смотрят на тебя, как на говно. Потому что для говна не говно – говно (такой вот афоризм). Можете называть меня cuwn[35], можете называть меня джанки, но лучше, дорогие мои, посмотрите на себя. Даже если вы и купили себе флэт с прекрасным видом на город с высоты птичьего полета, птицей от этого вы не стали, потому что субстанция, из которой вы сделаны, плавает, а не летает.
И то что я ворую из гипермаркетов – не свидетельство бедности, а мировой тренд, антипотребительское левачество, мой стихийный бунт против того, что вы мне навязали в качестве правил игры.
Прошло несколько лет с тех пор, как я снова увидел пельменеобразного старшего оперуполномоченного Департамента финансовых расследований Новикова и его дубовый костюм. Мне становится не по себе, когда я отдаю себе отчет в том, что все это время они за мной следили. Будто бы я был насекомым, живущим в домашнем муравейнике из прозрачного пластика.
Почему они взяли меня только сейчас? Сами они, наверное, сказали бы так: «Потому что появилась оперативная целесообразность».
Барыга
— Сто пятнадцатый сонет. Там было так: «Хлусіў я ў сваіх ранейшых песнях, што нельга мне цябе любіць мацней. Не ведаў я, што полымя прадвесні, магло пасля гарэць яшчэ зырчэй»[36]. — Ну? Элоиза сидела напротив меня. На этот раз – реальная, а не привидевшаяся во сне или грезах. Она была такая реальная, что до нее можно было бы дотронуться. Если бы я был уверен, что после этого меня не казнят за оскорбление четыреста тридцать восьмой. — Ну и, Сергей? Где тут слово? —Я думал… Что «прадвесні»... Это логично. Сначала кажется про «любовь», а потом «полымя прадвесні», которое могло бы гореть «зырчэй», чем их любовь. Можно допустить, что «прадвесне» — что-то между «любоўю» и «каханнем», разве не так? —Дурак! – она рассмеялась. – Какой же дурак!
Посмотрела мне прямо в душу с таким шутливым выражением лица, будто решая, продолжать ли издеваться надо мной или, может, объяснить. В такие моменты она напоминала игривую кошечку – каждая черточка ее лица источала дурашливость. Я не представляю, как такой человек мог руководить крупной и полностью законспирированной боевой организацией. — Сергей. Прадвесне — это слово, которое означает время, предшествующее весне. — И что, есть специальное слово для этого времени? — Наши предки так ждали тепла, что выдумали особое слово для обозначения этой поры. Когда снег уже почернел, земля под ним проснулась, но вода в лужах еще не оттаяла. Потому что все еще зима. — Вот оно, значит, как, – я вздохнул. — Но видишь, в этом весь Дубовка. Чтобы заполнять безэквивалентной лексикой даже перевод Шекспира. Потому мы именно за ним и охотились. Это все? Это все, что ты вспомнил? — Нет, ну почему все? – я наморщил лоб, имитируя серьезную умственную деятельность. На этот раз меня привезли к ней после первого короткого сигнала: «Готов встретиться. Есть версии». За мной заехал не обычный китаец с заученной фразой «сыредуте за мной», а белорус из числа приближенных Элоизы, которыми командует лично Сварог. — Так что еще? Выкладывай! – не терпелось ей. — Есть еще вариант – «змуста». — Змуста? — она нахмурилась. – Что-то странное. А в каком контексте? — Ну, там так: «Калі мне ў сэрцы месца не стае, а захапленне змусту прынясе».